- A
- A
- A
- АБB
- АБB
- АБB
- А
- А
- А
- А
- А
«Исследование – это личный уникальный опыт, который позволяет прожить не одну, а много жизней»
romanovempire.org
Профессор Школы исторических наук
Создание больших текстов, книг – один из древних и важнейших результатов работы философов и ученых со времен библиотек ассирийской Ниневии и египетской Александрии. Кирилл Соловьёв, профессор школы исторических наук, рассказывает о теневой политике в межреволюционной России, о будущей книге о российской общественности и о том, как политический язык XIX века влияет на нас до сих пор.
Желание написать книгу – это не то желание, которое возникает вдруг. Исследование в области истории – это всегда работа над книгой. Монография – главный плод исторического поиска. Все остальное взрастает «по случаю». Историк строит прошлое из камешков свидетельств, основываясь на интуиции и воображении. Для такого строительства статьи мало, да и книги не всегда хватает. Слишком много надо подвезти историографического и источниковедческого щебня, цемента и прочего материала, чтобы нескольких журнальных страниц было достаточно. Биография историка – это движение от книги к книге. Другое дело, почему возникает интерес к одним темам и угасает к другим.

Это как любовь, которая вспыхнет без всяких обязательств объяснить – почему. Конечно, к каждой книге лежит своя дорога, вымощенная обстоятельствами. И все-таки важнее другое: у каждой темы свой ритм, который меняет жизнь автора. Помню потрясающие дни работы над историей кружка «Беседа» – нелегальной политической организации рубежа XIX–XX веков, из которой выросли многие политические партии. Об этом объединении мало кто знает – и неудивительно: члены «Беседы» не стремились к публичности. Однако в их тесном кругу ткалась политическая жизнь еще только предстоявшего последнего десятилетия Российской империи. Чтобы представить эту среду земских лидеров, дворянских предводителей, столичных профессоров, нужно было собрать из крупиц источников единую картину. Материалы же разбросаны по многим архивам. Далеко не все, к сожалению, сохранилось. Это была работа детектива, который шел по следу утраченных или незамеченных источников. Что-то удалось найти, а что-то нет.
Это был тот случай, когда я двигался от темы к источникам. У меня был и другой опыт. Я как-то столкнулся с материалами перлюстрации Департамента полиции – и обомлел. В распоряжении историка – уникальный источник, который недостаточно освоен. Жаль, что материалы перлюстрации сохранились в полном объеме лишь за десять лет: с 1906 по 1917 год. Впрочем, и это довольно много. Благодаря усилиям весьма любопытных и порой мстительных властей, в распоряжении исследователя – огромный комплекс переписки общественных, политических, государственных деятелей. Эти письма в значительной своей части больше нигде не сохранились. То, что можно найти там, не найти ни в каком делопроизводстве, ни в личном фонде. Так получилось, что десять лет хорошо сохранившейся перлюстрации – это десять думских лет, поразительно ярких, динамичных, плотно населенных неординарными людьми и в конце концов трагических.
Источников от этого периода осталось более чем достаточно. Но письма не бывают лишними. Они позволяют разглядеть теневую часть политики, ее кухню, куда журналистов не пускают, о которой остальные только догадываются. Я туда забрел случайно, но мне там понравилось. Тексты писем предлагали решение, казалось бы, неразрешимых проблем. Как выстраивались отношения между министрами и депутатами, как готовились законопроекты (и вообще политические решения) «поверх» официальной процедуры. В государственной жизни есть место театру, но есть – и лабораторным поискам. В данном случае особый интерес представляли последние.
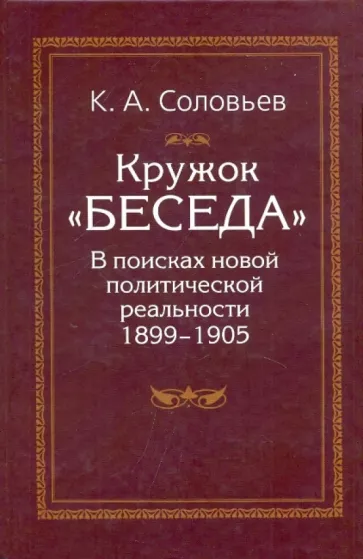
Исследовательская оптика настраивалась сама собой. В центре внимания оказывались не «большие дни» политики, а рутинные, малозаметные и при этом ключевые процессы. Историки часто бывают заложниками своих источников. Они замечают то, что должны заметить, на чем делают акцент авторы текстов, которые оказываются фундаментом для дальнейших исследований. В итоге так нередко получается, что работы в области политической истории столетней давности вторят журналистике того времени. За рамками исследования остается самое интересное: то, о чем современник может только догадываться; то, что достоверно знают лишь немногие активные участники политического процесса.
Я это назвал политической повседневностью. Речь идет о рутине, которая определяет ритм выработки ключевых решений. Ее нельзя свести к правовой формуле. Тут действует исключительно прецедентное право. В условиях межреволюционной России оно складывалось поразительно быстро, на глазах. Этот процесс, в который были включены не только депутаты и высокопоставленные чиновники, а также многочисленные группы интересов, менял сам характер политической системы. Это происходило само собой, не в силу чьего-то замысла или каких-либо договоренностей. Давала о себе знать логика развития сетевого сообщества – только формирующегося политического класса.
Мне хотелось испытать этот подход и на другом материале – России до 1905 года. Искушали поразительные тексты высокопоставленных чиновников рубежа XIX–XX веков. Воспоминания и дневники той поры красочные, умные и удивительно информативные. Они давали больше любой монографии. В этом мне виделась своего рода несуразность. Я хотел написать книгу, в которой нуждался сам – и как читатель, и как преподаватель.
Впрочем, имевшиеся лакуны легко объяснить: сюжет непростой. О политической системе России 1906–1917 годов можно говорить, хотя бы отталкиваясь от формальных оснований действовавшего законодательства. О том, что предшествовало думскому периоду, говорить сложнее. Можно воспроизводить мифологические картинки, встречающиеся даже в научной литературе. Они восходят к традиционной сказке о царе-самодуре, чьим хотением движется история. Эта схема плохо ложится на реалии XIX – начала XX века. И чем ближе к началу XX столетия – тем хуже.

Для предметного разговора об этом необходимо было вскрыть механику законотворческого процесса. Нужны источники – и они есть. Переписка, дневниковые записи, донесения императору – все это позволяет разглядеть картину, альтернативную официальному делопроизводству. Оно недоговаривает, умалчивает и лишь иногда намекает. В действительности же даже в самодержавной России была своя политика. Ее участники выстраивали наиболее эффективную линию поведения, договаривались, вели информационные кампании, координировали свою деятельность с общественными силами. Все это в той или иной степени получало отражение в документах, что позволяет заметно раздвинуть представление о политической системе Российской империи. Самодержавие в версии славянофилов и их сторонников – это миф, сказка, в которую верили сами цари, но в которой сомневались многие из их близкого окружения. На практике речь идет о сложной механике власти.
Книги пишутся прежде всего для самого себя. Несколько лет совместной жизни с представителями высшей бюрократии были увлекательными, но все подходит к концу. Мне кажется, я стал лучше понимать царских сановников. В чем-то они оправдали мои ожидания, в чем-то – нет. Среди них было немало талантливых, ярких, литературно одаренных людей. Но мне в них недоставало полета фантазии, воображения. Там превалировал прагматизм, цинизм, карьеризм. На сегодняшний момент я устал от бюрократов. Мне хотелось взяться за что-то совсем другое. Сейчас я занимаюсь историей общественности конца XIX – начала XX века.
Для меня самая интересная книга – всегда та, что еще не написана, над которой сейчас работаю. На мой взгляд, история российской общественности – интригующий сюжет. В социологическом отношении речь идет об очень скромном по масштабу явлении. Однако в столкновении с левиафаном российской государственности оно одержало верх. И возникает закономерный вопрос: как милые, часто безвольные, сомневающиеся в самих себе герои Антона Чехова смели многовековой режим Российской империи? Как так получилось, что их отвлеченные мечтания обрели мощь в глобальном масштабе? В конце концов это вопрос о природе революции. Я на него отвечал, когда писал и о власти, о правительственных кругах. Разумеется, они прежде всего несут ответственность за все катаклизмы, которые происходят в стране. Разломы внутри правящей элиты оказались роковыми для политической системы. Однако они, в свою очередь, объясняются историей общественности, общественного движения, общественной мысли. Нет жесткой грани, отделяющей общество от правительственной сферы. Это двуликий Янус русской истории XIX столетия. Две личины, но не две личности. Не вызывает сомнений тот факт, что правительственная политика – важный фактор складывания общественности. Но не менее значимо другое обстоятельство: правительственная политика легко вписывается в интеллектуальную жизнь России того времени. Лишенные каких-либо властных полномочий журналисты были кузнецами общественного мнения, на которое равнялись и цари. Идеи, брошенные с университетской кафедры, бродили в министерских канцеляриях. Более того, общественные деятели – без чинов и должностей – порой могли оказывать даже большее влияние на принятие политических решений, чем их соседи с чинами и должностями. При всей условности используемой терминологии, они были частью элиты того общества. И так было до 1905 года. После Первой русской революции их влияние заметно возрастет.

Всякое исследование предполагает открытия, большие или маленькие. Но главное, кажется, в другом: исследование – это личный уникальный опыт, который позволяет историку прожить не одну, а много жизней. Важнее всего прочувствовать логику, мотивы людей, которых давно нет. Нет правил, как это делается. Это то важное в исторической науке, что собственно наукой не является, что невозможно измерить, посчитать, а лишь интуитивно ухватить. И едва ли кто-то с определенностью скажет, верно это ухвачено или нет.
Позволю себе парадоксальное суждение: чем дальше от нас отстоят герои во времени, тем проще осознать пропасть, отделяющую нас от них. События начала XX века случились недавно, почти вчера. Люди, которые в них участвовали, очень похожи на нас. И говорят они почти так же, как мы. Мыслят они тем не менее иначе. Ценности у них свои. Наконец, у них совсем другой исторический опыт. Они не пережили XX столетия. У них нет сомнений, которые оно породило. Они куда более оптимистичны и уверены в себе. Они искренни в своих суждениях и верят в то, что говорят.
Если заниматься археологией современной политической мысли, нужно докапываться до XIX столетия. Тогда сложился язык, которым мы пользуемся до сих пор. Некоторые слова явно устарели, в некоторых случаях мы утратили их смысл. Однако политический лексикон остался практически таким же, как приблизительно сто лет назад. Мы говорим об идеологиях, государстве, власти, нации, обществе языком XIX столетия. Характерно, что некоторые славянофильские или народнические конструкции живы до сих пор. И все же до сих пор употребимые слова лучше ложились на социально-политические реалии прошлого, а не наших дней. При сравнении современных высказываний и реплик столетней давности становится очевидным, что мы донашиваем истлевший костюм. Мы его надеваем по привычке, и другого у нас, к сожалению, нет. Порой кажется, что и не будет. Но это неправда. Хотим мы того или нет, но долгий XIX век подходит к концу.
