- A
- A
- A
- АБB
- АБB
- АБB
- А
- А
- А
- А
- А
Фланирование среди университетских руин
О том, почему молодые люди выбирают академическую карьеру, какие видят ей альтернативы, кто и что подталкивает к этому выбору, какую роль играет научный руководитель, рассказывает Александр Русанов, старший научный сотрудник ИГИТИ им. А.В. Полетаева, доцент Школы исторических наук ФГН НИУ ВШЭ.

Вопросы, ответы на которые ожидаются в моем тексте для рубрики «Окон Роста», представляют особую сложность для меня – историка университетов и их сообществ. Во многих исследовательских проектах, в которых я имел счастье участвовать (прежде всего я говорю о многолетнем проекте по устной истории советских и постсоветских университетов Центра университетских исследований ИГИТИ им. А.В. Полетаева), повествования, аргументы и образы, возникающие в подобных ответах, – материал для беспощадного анализа и, среди прочего, деконструкции. Поэтому любые мои ответы на схожие вопросы не могут не проходить через дополнительные фильтры рефлексии, становясь все менее уверенными и, боюсь, все менее увлекательными и вдохновляющими.
К признанию этого «профессионального искажения» нужно добавить еще одно важное замечание. В обязательной для прочтения всем, кто причастен к академической жизни, книге «Университет в руинах» (ее замечательный перевод издан ИД ВШЭ) канадский исследователь Билл Риддингс показывает, что современная академия, вслед за крахом «классических» национальных государств лишилась основания, базовой системы координат, которая показывала бы его нужность и, среди прочего, придавала бы смысл академическим карьерам. Поэтому университет ныне пребывает в руинах; эти руины лишь запечатлеваются, но не собираются вместе в образе современного «университета совершенства» (или «эффективного университета»), главной фигурой в котором провозглашается не студент или преподаватель, а менеджер. Сейчас это верно еще в большей степени, чем в начале 1990-х годов, когда была создана книга. Эта ситуация, уже давно не новая, но до сих пор мало осмысляемая, ставит под вопрос возможность непротиворечивого (или хотя бы «красивого») описания чьей-либо «научной/жизненной траектории». Траектория движения точки на ободе катящегося колеса изменится в зависимости от того, что мы выберем точкой отсчета – точку на земле, центр этого колеса или бегущую рядом с этим колесом мышь. Если я не вижу в современном университете единой точки отсчета и (вслед за Ридингсом) признаю это его неизбежной особенностью, – это не может не отразиться в моем самоописании. Современный представитель академии, неизбежно фланер, беженец или мародер среди руин университета, больше не может себе позволить цельный рассказ о своем «научном пути». Такой рассказ будет или разговором, полностью игнорирующим современный университет, или просто (само)обманом.

Из-за этих двух причин мне непросто описать сейчас то, почему я выбрал свою профессию – историю, почему я остался в науке, тем более, непросто описать свои «достижения» в этой работе. В настоящее время мне, безусловно, кажется, что и поступление на исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, и выбор истории португальского Средневековья в качестве темы дипломного и диссертационного исследования – это интеллектуальный эскапизм, попытка бегства от окружающей реальности, создания собственного, комфортного и воодушевлевляющего, интеллектуального мира.
Я поступил в университет без экзаменов, заняв призовое место на всероссийской олимпиаде, что освободило меня от рефлексии, связанной с выбором профессии, в 2006 году. Сейчас я едва ли могу реконструировать мои мысли и чувства во время этого выбора: и моя семья, и весь город, где я вырос (Рязань), были чужды университетской культуре, с которой я впервые столкнулся уже став студентом (сложности, связанные с этой отчужденностью, – тема для отдельного важного разговора); я сам полностью изменился за прошедшие 16 лет; да и университеты в России за полтора десятка лет стали совершенно иными (к примеру, еще не существовало возможности изучать историю в Вышке). Поэтому «мир», в который я вошел в 2006 году, я совершенно не знал. До какого-то времени, я верил, что в нем существуют постоянные правила, некая точка отсчета (недоступная мне, провинциалу из неуниверситетского города), но впоследствии я (как мне сейчас кажется, сознательно) отказался от этой веры. Поэтому я не знаю этот «университетский мир» и сейчас – лишь могу проецировать на него мои нынешние надежды, страхи и разочарования. Начало моего «академического пути» – загадочный, неуловимый опыт, который никак не хочет помогать мне в моей исследовательской работе.
Точно так же я едва ли смогу восстановить в памяти моменты выбора, приведшие меня к тому, что я стал португалистом (к примеру, желание изучать относительно «экзотический» язык – или избежать конкурсного отбора, необходимого в то время на истфаке МГУ для распределения в англоязычных студенческих группах разного уровня). Уже после защиты диплома, оказавшись в Португалии, я безумно полюбил эту страну. Но связана ли как-то эта любовь с моей работой как ученого, определяет ли она как-то мою идентичность? На этот вопрос у меня пока нет ответа. Но это отсутствие ответа мне хотелось бы зафиксировать в этом тексте. Это отсутствие ответа – главный импульс в моей работе ученого.

Гораздо сильнее мою идентичность (и траекторию?) ученого определил момент, когда я (довольно случайно) был приглашен Еленой Вишленковой на должность стажера-исследователя в Институт гуманитарных историко-теоретических исследований имени А.В. Полетаева в 2013 году. В ИГИТИ я впервые почувствовал, что работа ученого (историка или любого гуманитария?) – не столько почтенное ремесло, сколько опасное разрушительное творчество. Опасное – поскольку оно способно изменить все «правила игры» гуманитарного знания, его границы и задачи, отменяя тем самым саму возможность «ремесла», планов на будущее, наград за труды и тому подобных радостей. С тех пор я не могу иначе воспринимать ни собственную, ни чужую интеллектуальную работу. Эти изменения в восприятии и работе, с одной стороны, «разрушили» мою идентичность португалиста и медиевиста, с другой стороны – впервые позволило мне всерьез увидеть и оценить мои блуждания среди руин современного университета.
И с тех пор, как в конце 2016 года я стал штатным сотрудником Института, эти блуждания не кажутся мне досадной случайностью, мешающей некой основной работе. Я пытаюсь проследить «странствия» ученого сообщества средневекового португальского университета. С одной стороны, эта тема – прямое продолжение медиевистического «истока» моего научного странствия, о сложном отношении к которому я писал чуть раньше. С другой стороны, это – поиск инструментов, способных уловить неуловимое «мерцание» интеллектуальных сообществ, «изобретенности» любой их Традиции, иллюзорности любой золотой цепи, связывающей их прошлое и настоящее. Судя по всему, это «мерцание» – неотъемлемое свойство таких сообществ, и древних (португальский университет в XIV в. несколько раз переезжал из Лиссабона в Коимбру и обратно, в связи с этим остро стоит вопрос о преемственности между каждым его (пере)основанием), и новых.
Этот поиск дополняется осознанием непреодолимого (и необходимого) разрыва между современностью и Средними веками («домодерным обществом», темным двойником нашего рационального мира, Иным). Мы неизбежно (или почти неизбежно) отказываем нашему истоку в тождестве с нами, отчуждаемся от него, провозглашая его то «темной юностью» и ее ошибками (как сделал я, говоря чуть раньше о начале своей работы в академии), то – «Средними веками». Подобный жест отчуждения, непонимания, разрыва традиции – очень важная часть интеллектуальной культуры, по крайней мере, европейской (хотя сами границы Запада и его Иного, описанные, к примеру, через концепцию ориентализма, – явно не чужды этому же самому жесту). Этот жест, дополненный смутным желанием вернуться к неведомому «истинному истоку» (Античности, веры, науки, детства) – находится в центре внимания так называемых medievalism studies, исследований восприятия Средневековья в последующие эпохи (о них см., например: iq.hse.ru/news/219711261.html). Так что другая сфера моих научных интересов, медиевализм, тесно связана с первой и, кроме того, отлично вписывается в ту манеру, что я избрал для этого текста.
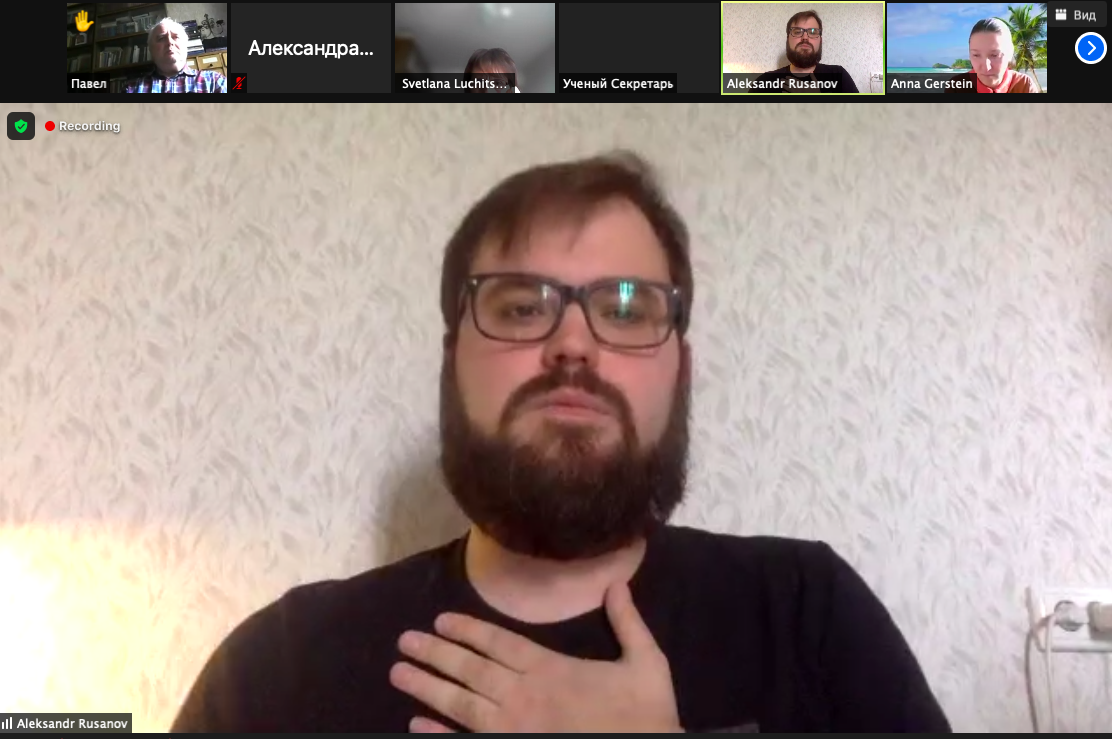
Третья область – публичная история, о который мы с Александрой Колесник рассказывали «Окнам роста» три с половиной года назад. Легко заметить, что и она легко вплетается в обрисованную мною «мерцающую» траекторию моей академической работы. Публичная история «высвечивает» в ней очень важную проблему: необходимость постоянного переизобретения границы между экспертами и непрофессионалами, между историками и «публикой». Легко увидеть, что «мерцает» не только преемственность интеллектуального сообщества, неуловимы для взгляда, спорны (и при этом – опасны, скандальны) сами его границы. Прошлое принадлежит всем – эту, на самом деле, страшную мысль все больше принимает и Университет, сколько бы он не надеялся быть «всего лишь» местом воспроизводства элит, монополизирующих право на прошлое и, конечно, на власть. Как изменится мир после этого принятия – загадка. Еще большая загадка – каких изменений, разрывов преемственностей и изобретений, это потребует для интеллектуальных сообществ. Вместе с Университетом в руины обратились и его «башни из слоновой кости» – порождаемые им элитаристские иерархии, границы и речи. Это дает огромное вдохновение. Загадки этого нового мира не могут не быть в центре внимания молодых исследователей.
Наблюдение и творчество в этой загадочной области видятся мне важнейшими задачами в наши дни. И эти задачи (надеюсь, не только в моем воображении) способны собрать вместе разнородные формы опыта, о которых я написал в этом тексте, и придать им смысл, для передачи которого в этом тексте я пока не имею ни терминов, ни образов.
Безусловно, я никак не могу быть удовлетворен моими излишне витиеватыми ответами на довольно простые вопросы, которые я попробовал обобщить в этом небольшом тексте. Но я не вижу никакой возможности принципиально иного честного самоописания в современном университете. И, без всяких сомнений, его руины – это лучшее во Вселенной, прошлой и настоящей, место для опасных интеллектуальных странствий, позволяющих понять, где же мы живем и что же мы по-настоящему можем сделать здесь и сейчас. Или, по крайней мере, способным подарить академическим странникам мечту о таком понимании, которая сможет помочь в тот момент, когда нужно будет действовать.