- A
- A
- A
- АБB
- АБB
- АБB
- А
- А
- А
- А
- А
Академическое чтиво
GE1013 / Flickr
В этом выпуске о своих любимых художественных и научных произведениях, а также о книгах, полезных в преподавании, рассказывают Артём Серебренников, Елена Шкапа и Дмитрий Харитонов.
Школа филологических наук: Доцент

Школа иностранных языков: Старший преподаватель

Школа филологических наук: Доцент
Художественная книга
Артём Серебренников, доцент школы филологических наук факультета гуманитарных наук
Если есть одна книга, определившая, простите за высокопарность, мою судьбу, то это, без сомнения, «Дон Кихот». Прочитан он был в 12 лет, полностью и до конца, в неадаптированном издании (у нас в семейной библиотеке был знаменитый пятитомник Сервантеса). К тому возрасту я уже догадывался, что есть сокращенные пересказы и детские версии взрослых книг, и мне хотелось приобщиться именно к сей последней. Роман произвел на меня такое же действие, как чтение рыцарских романов – на его героя. Меня поразило и обилие пусть и гротескно-пародийных, но все же приключений, и остроумие диалогов, и многообразие эпизодических персонажей, и сочный быт старой Испании, и, главное, то, что взрослая книга может быть уморительно смешной. По итогам чтения я утвердился во вполне донкихотском намерении если не стать рыцарем, то по крайней мере выучить испанский язык и узнать об этой книге как можно больше. Четверть века спустя я о принятом решении нисколько не жалею, что подтверждает одно из главных открытий «Дон Кихота» и его автора: художественный вымысел имеет исключительную власть над людьми. Вслед за «Дон Кихотом» почетные места на пьедестале займут «Гаргантюа и Пантагрюэль» (прочтенный в 13 лет, опять же полностью и со всеми солеными подробностями, во время болезни – так я не смеялся, наверное, с тех пор никогда) и «Тристрам Шенди» (прочтенный уже в студенческие годы и окончательно убедивший меня, что великие книги могут быть смешными, а постмодерн не выдумал ничего нового). Как нетрудно заметить, и здесь «Дон Кихот» повлиял на мои вкусы, навсегда привив мне любовь к раннему европейскому роману.

Елена Шкапа, старший преподаватель школы иностранных языков
На филфаке всегда нужно читать невероятное количество книг, и эта привычка остается как некое наследство. Поэтому крайне сложно выбрать одну-единственную книгу. Помню, в университете я познакомилась с романом «Мы» Евгения Замятина. С одной стороны, меня особенно привлекала точность и математическая гениальность. А для человека, который учился в ФМШ и в 17 лет хотел свою жизнь связать с мехматом, это было очень важно. С другой стороны, в то время меня переполняла гордость за то, что у Большого Брата был русский «отец». Мне кажется, его антиутопия – подтверждение известных слов автора о том, что настоящую литературу способны создавать только безумцы, еретики, мечтатели, бунтари, скептики.
Люблю этот роман еще и за то, что у него весьма интересная история публикации, очень тесно связанная с историей нашей страны. Роман был подвергнут цензуре, впервые увидел свет в английском переводе, сам Замятин эмигрировал, а до нас антиутопия дошла уже спустя почти 70 лет.
Как показывает современная литература и кино, тоталитарное общество, изображенное Замятиным, до сих пор способно вызвать интерес. Есть что-то интригующе зловещее в том, чтобы предложить образ совершенного и чрезмерно регулируемого общества, в котором для общего блага людей освобождают от склонности к правонарушению.

Дмитрий Харитонов, доцент школы филологических наук факультета гуманитарных наук, академический руководитель образовательной программы «Русская литература и компаративистика»
Я не уверен, что у меня есть любимая книга, да и вспомнить нечто единственное, что расположило меня к филологии, я тоже, пожалуй, не сумею; но есть книга – художественная, и необычайно художественная, – которая относится и к тем, которые я очень люблю, и к тем, которые очень для меня важны с профессиональной точки зрения. Более того, совсем недавно я говорил о ней со студентами (она входит в программу курса под названием «Западный канон», который я читаю в магистратуре «Литературное мастерство») и надеюсь, что еще поговорю. Это роман Владимира Набокова «Бледный огонь» (1962).
Никакой захватывающей истории у меня с этим романом не связано, если не считать таковой обсуждение его в аудитории: курс слушают писатели и переводчики, у всех разные вкусы, разный читательский опыт, разная жизнь, и мне было интересно, каким получится разговор о романе, который едва ли не весь посвящен проблеме интерпретации и коммуникации. Более того, «Бледный огонь» – один из самых сложных и прихотливо устроенных романов, когда-либо написанных; еще более того, это Набоков в прекрасной форме, а значит, жди изощренной игры с читателем, коварных подсказок, обманных ходов, ловушек, отражений, мерцаний, пугающей языковой пластики и прочих примет его удивительной прозы, которые, естественно, многих раздражают.
Это роман, в котором очень многое может и, пожалуй, должно быть непонятно; на виду куда меньше, чем из виду скрыто: как же говорить о нем так, чтобы разговор не разбился об этот айсберг?
О реакции коллег судить не берусь, но мне наше обсуждение очень понравилось: айсберг этот совершенно прекрасен, и мне кажется, что мы вполне полюбовались теми его гранями, благодаря которым «Бледный огонь» считается одним из шедевров Набокова и заодно мировой литературы, в частности американской (хоть и был написан русским эмигрантом в Европе). Поэтому я когда-то и узнал о его существовании; эти же грани сделали его одной из моих любимых книг. Что это за грани?

Во-первых, та самая сложность и прихотливое устройство, которое одних читателей (критиков, исследователей) приводит в восторг, а других бесит. Перед нами – якобы – академическое издание поэмы американского поэта Джона Шейда «Бледный огонь» с предисловием, подробнейшим комментарием и указателем, принадлежащими перу Чарльза Кинбота, друга покойного поэта (тот погиб от рук убийцы). Впрочем, мы очень быстро понимаем, что это что угодно, но не сухое научное повествование, а если и не что угодно, то много всего; мы со студентами довольно долго перечисляли жанры, которые можно «расслышать» в «Бледном огне»: тут и детектив, и шпионский роман, и роман университетский, и любовный, и исторический, и альтернативно-исторический, и роман о художнике, и фэнтези… И это, конечно, не все.
Мы быстро понимаем, что роман этот – не то, за что он себя выдает; понимаем мы это, заметив, что Кинбот – человек крайне странный, а комментарий, который он пишет, – это отнюдь не что-то в духе, скажем, комментария самого Набокова к «Евгению Онегину», а совсем, совсем другая история. Кинбот убежден, что в автобиографической поэме Шейда (входящей в состав романа) на самом деле идет речь о стране под названием Зембла (или Зембля), из которой Кинбот родом (действие же романа происходит в Соединенных Штатах); он уверен, что вдохновил Шейда рассказами о ней (главный – о том, как после свершившейся в Зембле революции оттуда бежал последний ее король, Чарльз – или Карл II Возлюбленный); и он ищет (а главное, находит) подтверждения этому буквально в каждой строчке поэмы, будучи мучительно, прекрасно, чудовищно слеп ко всему, что можно было бы назвать подлинным ее содержанием.
И это, конечно, тоже не все. Это только начало.
Кинботу многое нужно нам рассказать, многим нужно с нами поделиться, сочетая педантизм со страстью («см., часто см. примечание к строке 181»), но главное, кажется, он рассказывает, не сознавая этого. Ненадежнейший из рассказчиков, он не только не тот человек, которым кажется, но и не тот, которым себя считает.
И все это грустно так, как мало что во всех книгах на свете.
И это во-вторых.
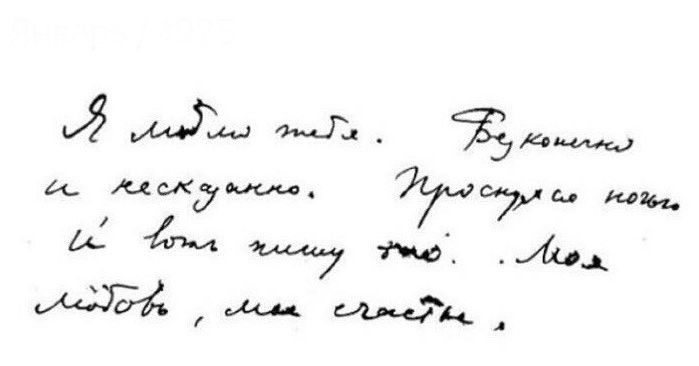
Не хочется (то есть хочется, но удержусь) говорить подробнее о сюжете «Бледного огня», о том, как этот роман понимали и понимают, о том, как о нем спорят: что это – одна из самых значительных книг ХХ века или скучная, тяжеловесная шутка? Кто все это рассказывает – действительно Кинбот или все-таки Шейд? (А может, оба?) Что хотел сказать Набоков (good luck with that, как говорится) и что он в конце концов сказал – холодное слово трюкача-формалиста или гуманное слово человека, который, по его собственному признанию, «разил порок, бичевал глупость, высмеивал пошлость и жестокость и верховной властью наделял доброту, талант и гордость»?
Говорить об этом не хочется потому, что хочется оставить побольше тем, кто этой книги не читал; если мое восприятие «Бледного огня» и менялось, то только, так сказать, в лучшую сторону, и поэтому я готов рекомендовать его каждому, кого соблазнит (или хотя бы не отпугнет) сочетание формальной изощренности и намеренной головоломности с печалью, которой светится этот роман.
В этом свете можно увидеть и потерянную Набоковым Россию, и потерянного им отца (застреленного, как и Шейд, вместо другого человека), и ад советских лагерей, и тоску эмигранта, и гибельное одиночество безумца, и всех нас.
Актуален ли этот роман? Безусловно – потому хотя бы, что актуально человеческое страдание; хотелось бы, чтобы актуальным было и сочувствие ему, да и хорошей литературе хотелось бы пожелать актуальности. Но «Бледный огонь» – тут я перехожу к профессиональному становлению – еще и роман филологический, причем такой, который хочется назвать обязательным для любого филолога. «Без моих комментариев, – провозглашает Кинбот, – текст Шейда попросту лишен всякой человеческой реальности… реальности, дать которую могут только мои примечания». Искушение «вчитать» в чужое сочинение что-то свое, присвоить его, объявить, что ты раскрыл его истинный смысл, и маниакально видеть этот смысл повсюду – искушение, знакомое, наверное, едва ли не каждому литературоведу, но от это го не менее опасное. Кинбот, говоря словами Шейда, «намеренно бросил серое и несчастное прошлое и заменил его блестящей выдумкой»; сквозь эту выдумку прочел поэму; подражать ему – значит угрожать и литературоведению, и литературе. Кинбот комментирует текст, в котором, строго говоря, не понимает ни единой строчки, начиная с заглавия; беда не в том, что его интерпретация неожиданна, а в том, что она произвольна: ему не на что опереться, кроме своих лихорадочных домыслов, – и плох тот исследователь, который ему уподобится.
Впрочем, только ли филолог может оказаться в этом жалком положении? Конечно нет; Кинбот – фигура универсальная, он – читатель: не тот ли, чье рождение, как напишет в 1967 году Ролан Барт, приходится оплачивать смертью Автора? Тот самый: Шейд гибнет, и Кинбот растворяет написанное им в своей трактовке. Кинбот – двойник всякого, кто истолковывает на свой лад прочитанное, услышанное, увиденное, случившееся: преувеличенная, искаженная, неотделимая, несчастная тень каждого из нас.

Академическая книга
Артём Серебренников
В детстве и отрочестве, наверное, определяющими для меня оказались «Мифологический словарь» под редакцией Е.М. Мелетинского (своего рода «лайт-версия» культовых «Мифов народов мира», каковых, увы, не имелось) и «Поэтический словарь» А.П. Квятковского. Первая книга открыла мне такие важные понятия, как «демиург», «культурный герой» и «эсхатология», и привила основы если не прямо структурализма, то систематического мышления, оставаясь при этом еще и собранием занимательных историй. Действие второй было сходным – такое же превращение хаоса в космос; вслед за миром легенд и царство поэзии из таинственного и уму непостижимого становилось логичным и понятным. Хотя прямая нужда в них давно отпала, эти книги я нередко открываю вновь по ностальгическим соображениям.
Если говорить о более зрелом этапе, то тут, «возвращаясь к нашим баранам», ничто не идет в сравнение с глубоко перепахавшим меня «Творчеством Франсуа Рабле и народной культурой средневековья и Ренессанса» М.М. Бахтина. Бахтинские идеи традиционно считаются сложными, противоречивыми и зачастую трудноописуемыми, и я помню, что первое впечатление от книги было именно таким, хотя в конечном итоге и положительным. Уже потом, ознакомившись с критикой Бахтина и современным состоянием вопроса, я понял, что меня так сбивало с толку: Бахтин соорудил, по словам одного из критиков, «культурологический фантом», представив феномен карнавала в таком виде, в каком он нигде и никогда не существовал. В своих историко-литературных построениях Бахтин маргинальное ставил в центр, а типическое и стандартное отбрасывал в сторону, совершенно по-карнавальному меняя местами «верх» и «низ», – но при этом построенные на сомнительных основаниях выводы относительно романа как жанра идеально точны, особенно в том, что касается ранних его форм. Эту причудливую и парадоксальную книгу (на Западе смехотворно объявляемую «марксистской») сейчас я воспринимаю cum grano salis, но притом не могу отрицать, что она в свое время меня сильно перевернула.

Елена Шкапа
С этой книгой я познакомилась во время обучения в Болонском университете. Речь идет о монографии Джулианы Бенвенути и Ремо Чезерани “La letteratura nell'età globale”. К сожалению, на русский язык она пока не переведена. В первую очередь для меня эта книга об открытости, расширении границ, разных точках зрения и всеобъемлющем взгляде на литературу, который распространяется и на другие области.
В монографии речь идет о том, что пришло время изучать итальянскую культуру за пределами обычных границ, в контексте не только Европы, но и всего мирового сообщества.
В XX веке произошло ослабление традиционных центров доминирования, исчезновение многих границ; очевидно постепенное расширение и смешение языков и культур, изменение шкалы ценностей; появились новые, ранее неизвестные авторы, многие из которых принадлежат другим традициям. Именно благодаря этой книге я узнала о том, что есть не только постколониальная литература, но постколониальная литература на итальянском языке.
В этой монографии литература рассматривается как одна из возможных точек межкультурного сравнения, поэтому она должна использовать преимущества переводов, которые не хотят нивелировать различия. Это некоторые из биологических и когнитивных принципов, которые лежат в основе каждой творческой деятельности, а следовательно, и различных литератур: обнаружение общих черт в произведениях, которые очень далеки по генезису, может помочь понять неожиданные, антропологические и, возможно, стилистические сходства. Но мы должны начать по крайней мере с четко определенных условий сравнения: например, сегодня чтение Данте в Италии не означает замыкание себя в узком измерении, но попытки найти веские причины его распространения, почему его уже давно отнесли к классикам, каким образом он стал «глобальным» писателем. Почему писатели со всего мира, от Кэндзабуро до Дерека Уолкотта, делают его значимым компонентом своих произведений.

Книги и студенты
Артём Серебренников
Пожалуй, самый интересный в этом плане текст (его я люблю давать студентам как минимум трех разных курсов) – сервантесовская «Новелла о беседе двух собак». Сравнительно компактная, остроумная и занимательная, она неизменно вызывает довольно живую реакцию у аудитории. В этом позднем тексте Сервантеса не меньше, чем в «Дон Кихоте», и как будто бы в насмешку над деконструкционистскими теориями возникают сложнейшие и увлекательнейшие литературные проблемы: природа и «надежность» повествователя; текст внутри текста; реальность vs фантастика; бытовая реальность vs книжная; античная традиция и свободный вымысел Нового времени… По сходным причинам я так же высоко котирую «Племянника Рамо». Этот изумительный (и, что немаловажно, компактный) текст Дидро тоже полон загадок, странностей и постмодернизма avant la letter и позволяет коснуться множества историко-литературных и поэтологических вопросов, присущих скорее литературе ХХ и ХХI веков, но как будто предугаданных просветителем из своего XVIII века.
Елена Шкапа
Я расскажу о книге, из которой я часто читаю со студентами отдельные главы. “La patria, bene o male. Almanacco essenziale dell'Italia unita” (М. Грамеллини, К. Фруттеро) была приурочена к 150-летию объединения Италии. В ней 150 исторических дат, которые описывают историю страны, начиная с Рисорджименто. Студенты нашего университета очень хорошо знают историю, однако в книге очень много таких подробностей, которые часто ускользают от нашего внимания, а порой неизвестны широкой публике.

Поэтому, кроме чтения на итальянском языке, студенты знакомятся с иной историей Италии, часто более интересной, чем та, которую немного скучно рассказывали в школе или о которой мы сами читали в книгах. Отдельно стоит отметить и ироничный стиль написания, метафоры, любопытные цитаты политиков, королей, писателей и т.д. Так, например, вспоминается фраза Джованни Джолитти (премьер-министр Итальянского королевства) о том, что итальянцами управлять несложно, но бесполезно. В этой фразе из интервью очень метко описывается дух индивидуализма (кампанилизма), который до сих пор можно заметить при общении с итальянцами. Или, например, известная фраза Массимо д’Адзельо: “L'Italia è fatta, ora si tratta di fare gli italiani” («Италию мы создали, теперь надо создавать итальянца»).
Самые креативные студенты иногда делают очень интересные мини-сценки на основе прочитанного. И это очень ценно.
Как учит эта книга, повседневная жизнь не менее значима, чем великие события, а я стараюсь сделать ее еще и максимально увлекательной.
