- A
- A
- A
- АБB
- АБB
- АБB
- А
- А
- А
- А
- А
Из написавших книги можно составить город
Trnava University / Unsplash
Создание больших текстов, книг – один из древних и важнейших результатов работы философов и учёных со времён библиотек ассирийской Ниневии и египетской Александрии до наших дней. Олег Воскобойников, ординарный профессор НИУ ВШЭ, рассказывает об искусстве, истории искусства как истории людей и о своём писательском опыте времён эпидемии 2020 года.

Профессор Школы исторических наук
Всё то, что я писал в те времена,
Сводилось неизбежно к многоточью.
Иосиф Бродский
Вызов
Так уж получилось, что в Высшей школе экономики мне, медиевисту, суждено было преподавать не средневековую историю, а историю искусства. Я сознательно принял этот вызов в 2010 году, когда мы с друзьями основали здесь исторический факультет и распределили между собой магистральные, неприкасаемые дисциплины. Вызов был двоякого свойства. Во-первых, история искусства – моя вторая, не совсем законная любовь, потому что по всем моим «корочкам» я историк. Во-вторых, на русском языке формально не было и нет учебника по этой науке, хотя, естественно, хватает замечательных книг по отдельным проблемам и направлениям. Более того, и в мировом искусствознании учебник, мягко говоря, нелюбимый жанр. Готовясь к абсолютно новому для себя курсу, я очень не хотел упаковывать всю историю искусства от бизона до Барбизона (не говоря уж о Бэнкси) в двадцать лекций, – это казалось мне лицемерием. Поэтому я взял за основу единственное на сей день систематическое введение в историю искусства как научную дисциплину, созданное Б.Р. Виппером в 1930–1960-х и переиздаваемое по сей день без иллюстраций, библиографии и указателей, в первозданном, так сказать, виде[1]. Несмотря на явную незавершенность и разношерстность некоторых разделов, это исследование, за которым стоят годы преподавания, что называется, классика жанра, едва ли не лучшее, на что можно опереться. В течение десяти лет полторы тысячи моих студентов (историков, экономистов, финансистов и международников) вынуждены были питать к этому добротному «старью» самые нежные чувства.
[1] Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 2008.

С самого начала я чувствовал, что моему авторскому курсу, чтобы стать реально авторским, нужно что-то свое. Есть и еще одна важная деталь: я не преподаю историкам искусства, моя задача в том, чтобы познакомить с этой наукой и, естественно, с произведениями искусства тех, кто готовится идти иными путями. Несколько лет назад, дописав докторскую, я решился сочинить собственный учебник, придумал подробный план, обоснование, «новизна», «актуальность», «задел», «потенциал» – и заключил с нашим издательским домом соответствующий договор. Заявку, как ни удивительно, поддержали, и я успешно отложил на послезавтра то, что нужно было сделать завтра. А завтра началась эпидемия.

Как я провел это лето
В некоем лучшем мире я, конечно, отпросился бы в отпуск месяца на три и уехал бы в какой-нибудь Принстон, в лондонский Институт Варбурга, в Мюнхен или в Париж. Туда, где есть книги, периодика, музеи. С некоторых пор для меня это невозможно. В наших столичных библиотеках, конечно, есть книги об искусстве, они есть даже в Вышке. Но, когда берешься за что-то серьезное, нет ни базовых монографий, ни каталогов выставок, ни специфической периодики. В домасочную эпоху это навевало на меня меланхолическое настроение. С другой стороны, Эрих Ауэрбах, говорил я себе, написал «Мимесис», важнейшую для литературоведения книгу, в стамбульской эмиграции, после войны, вовсе без библиотек. И Фасмер с его «Этимологическим словарем русского языка», написанным по памяти. Советские искусствоведы не видели почти ничего, потому что почти никого не выпускали, а привозили и того меньше. Нам легче: искусство, благодаря Сети, намного доступнее, чем даже десять лет назад. Кроме того, по счастью, пятнадцать лет цифровой фотографии дали свои плоды, и кое-что я успел собрать в дюжине приличных библиотек мира, периодически, втайне от медиевистики, увлекаясь всеобщей историей искусства. Кое-что, наконец, было собрано и живьем за последние тридцать лет.

В марте нас всех «накрыло». У меня было три главы из пятнадцати запланированных, страниц на семьдесят. Как и все, я не выходил из комнаты, не совершал ошибки. К тому же, как подсказывал тот же поэт, «там, чай, не Франция». Что мне оставалось делать, как не сесть за стол? Я точно знал, что не хочу повторять Гомбриха, описавшего таки всю историю искусства от бизона до Барбизона удивительно ясным, «для всех», языком в 1950 году и недавно переведенного наконец на русский. Знал также, что и Виппера мне не пересмотреть и ничем особым не дополнить. Первый, один из самых высоколобых наследников Варбурга, изложил последовательность событий так, что дальше можно лишь менять некоторые акценты. Мне, например, немного обидно, что на Бенвенуто Челлини у него нашлось две страницы, а на Андрея Рублева – ни строчки. Техническая сторона вопроса Гомбриха никогда особо не волновала. Второй не менее четко разъяснил, чем литография отличается от ксилографии, масло – от темперы, мрамор – от бронзы и как всё это смотреть и анализировать. Но вопросы, которые и тот и другой задавали искусству, отчасти сохраняя свою актуальность, обогатились несколькими крупными поворотами гуманитарных знаний, опытом еще трех поколений историков искусства и, что не менее важно, художников. Оба знали искусство своего времени, но оба словно вынесли свой век за скобки. Гомбрих в позднем издании даже сожалел, что вообще включил в свою историю «хронику модных событий».

Сопротивление профессии
Любой «древник» тяготеет к своей древности. Именно поэтому я решил минимально писать о лучше всего знакомом мне «тысячелетнем царстве» – Средневековье. Это стало сознательным выбором, но и элементарным проявлением любопытства и немного – дерзости: я впервые взялся за что-то серьезное не про Средневековье. Поддержал меня больше всего десятилетний опыт преподавания в Вышке. Сотни студентов выступали и выступают на моих семинарах с докладами о конкретных произведениях искусства, пишут о них же эссе, которые я проверяю вместе с моими ассистентами и товарищами по борьбе. В магистратуру «Медиевистика» я с удовольствием принимаю историков искусства и стимулирую работу с визуальным материалом, соглашаюсь на чисто искусствоведческие темы, не оглядываясь на дисциплинарные привычки и предрассудки. История искусства – тоже история людей. Просто, может быть, в лучших их – людей – проявлениях. Студенческая работа многое расставляет по местам. Я учу их задавать вопросы к статуе, постройке или картине. Но хорошие, неравнодушные студенты, те самые, ради которых стоило вообще оставаться в университете, всегда приходят с новыми вопросами, сами находят произведения, о которых я понятия не имел. Например, в прошлом году рэшики открыли для меня искусство искусственного интеллекта, прогнав через какую-то программку мою фотографию: получилась презабавная помесь Пикассо с итальянскими футуристами.
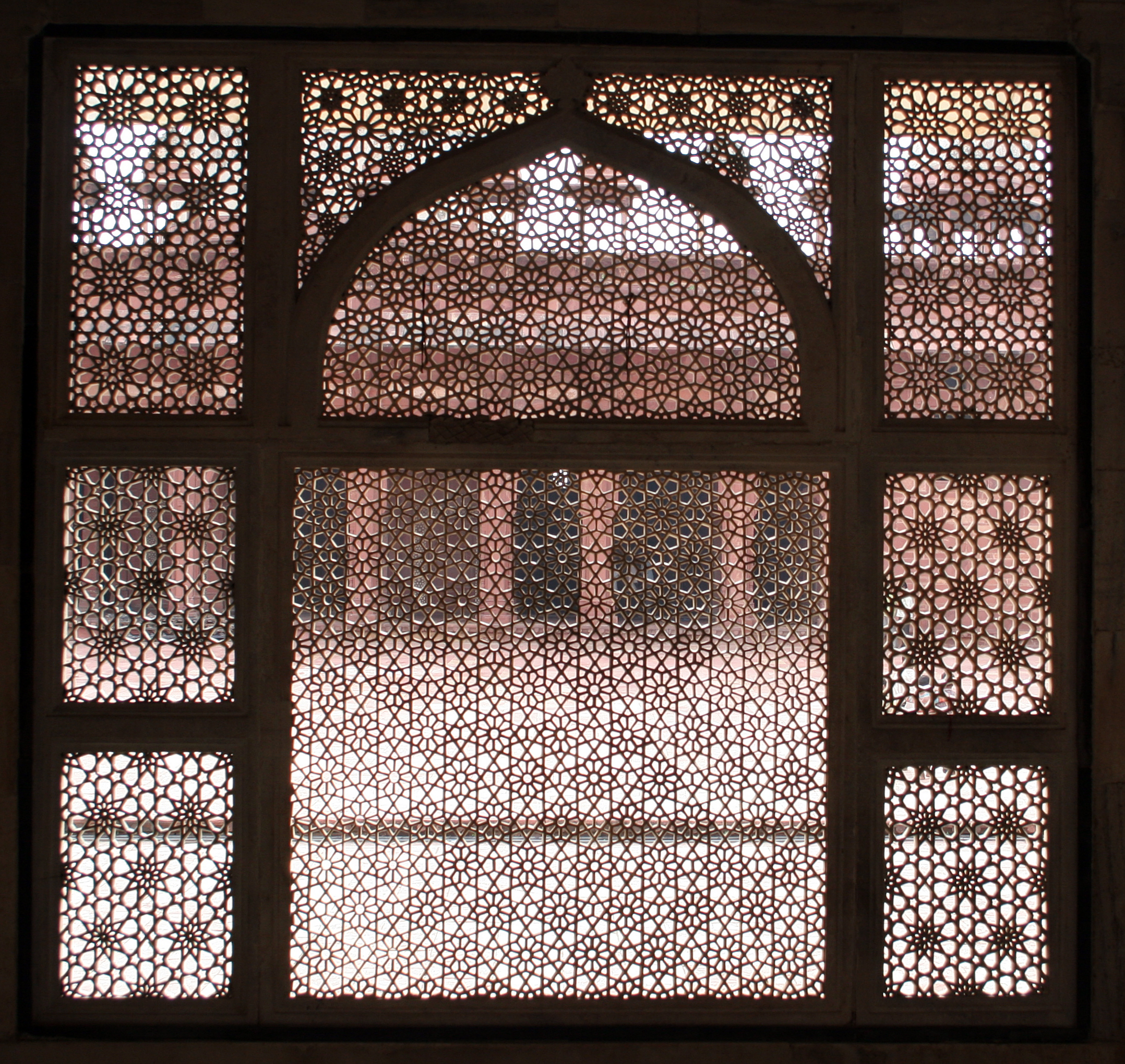
Отчасти отвечая на обновленный любопытством моих учеников собственный вопросник, отчасти ради движения вперед, этой осенью я решил полностью переделать свой курс и уже под него создать тот самый запланированный учебник. Мои лекции всегда замкнуты тематически, то есть каждая предъявляет большую тему. Например, «Латынь архитектуры», «Город как произведение искусства», «Лицо, маска, портрет», «Противостояние искусству: аниконизм, иконоборчество, вандализм», «Поэтика фотографии», «Искусство, философия и картина мира». Как можно видеть, такая разбивка сознательно уходит от основных координат исторического описания – хронологии и географии. Нет или почти нет ни жанров, ни техник искусства, всем знакомых со школьной скамьи. На самом деле, историка из меня не вытравить, как не вытравить и искусствоведа. Я понимаю, что иконоборчество фараонов – не то же, что брань Хрущева или «Бульдозерная выставка», что т.н. «Маска Агамемнона» не равна маске индейца, выставленной в Музее на набережной Бранли. Но мне очень хотелось представить искусство как приключение, длящееся так же долго, как цивилизация, а может быть, и дольше. В этом приключении есть сюжеты, проблемы, вопросы, объединяющие человечество, но эти вопросы оно всегда решает по-разному, в том числе с помощью эстетической функции. Она, если верить Яну Мукаржовскому, одна из функций вещей, вездесущая, но далеко не всегда главная. Между тем в этом мире абсолютно всё может быть красивым, даже деньги. Например, когда они выходят из оборота. Старые вещи молчат о своем, не тревожат наш быт, зато бередят воображение, воздействуют на чувства и разум. В вещах скрыта сила, совсем не заложенная в них ни производителем, ни потребителем, но пробуждающаяся в новых условиях, иногда спонтанно, иногда потому, что это кому-то показалось нужным и полезным для себя или для других. Искусство – везде, а художник дремлет в каждом из нас.
Великие ожидания
Из последних философических рассуждений очевидно, что такой ход мыслей мало вписывается в то, что мы обычно называем учебником. Заметили это и мои друзья в издательстве. За ними и я вынужден был признаться, что не способен породить «норматив», систему координат, которая ввела бы условного студента в курс дела. Представить себе в радужном сне гриф Минобра или что-то в жанре «для непрофильных направлений подготовки» еще можно, но наяву назвать новорожденное творенье учебником я бы не решился. Еще более наивно было бы предполагать, что наши искусствоведы, культурологи или дизайнеры вдруг возьмутся преподавать историю искусства по-моему. Если мне есть что сказать обо всем искусстве, это не значит, что то же самое захотят сказать о нем мои коллеги. Поэтому на днях, ставя точку в последней главе, я понял, что эти 350 страниц – серия из 16 эссе.

Французское essai, вышедшее из среднелатинского exagium, «взвешивание», «измерение», уже в конце XII века означало во Франции «встречу с чем-то новым», «испытание» и в особенности опытное засвидетельствование качеств и характеристик какого-то предмета. Вскоре метонимически этот термин перешел в кулинарию, виноделие, так стали называть дегустационный бокал. А в середине XVI века им решили обозначить опыты начинающих литераторов, которые в прозе брались за какую-то тему, не претендуя на полноту изложения. Среди этих последних в 1580 году оказался Мишель де Монтень. Мой случай. Внутренний голос подсказывает, что я не написал ни учебника, ни научной монографии. Вместе с тем мне кажется, что взгляд на историю искусства, который я дал этой осенью студентам совместного бакалавриата ВШЭ и РЭШ, претендует на определенную системность, как и положено университетскому курсу, – с системой оценок и распределением нагрузки между разными образовательными технологиями. Мои подопытные рэшики написали восемь тестов по всем главам – и жаловались не все. Другое дело, что представил я этот самый системный взгляд в специфических условиях, и черные прямоугольнички на виртуальном иконостасе зума вместо живых лиц не назовешь даже набившим оскомину англицизмом «фидбэк», не говоря уже о чем-то более человеческом, чем некогда так щедро радовал нас университет. Смешно винить ребят за черные прямоугольнички.
Но и здесь, в озумевшем мире, я не унываю: Александр Блок читал зимой 1919 (кажется) года лекции двум слушателям, иногда – одному. Так что не время ныть. Даже если меня, лектора, наверняка заменит моя же записанная на видео говорящая голова или еще какой-то фотоэлемент, книга, надеюсь, станет для грядущего киберискусствоведа надежным подспорьем, для всех остальных – забавой уму и сердцу. Она всё же будет называться «История искусства».